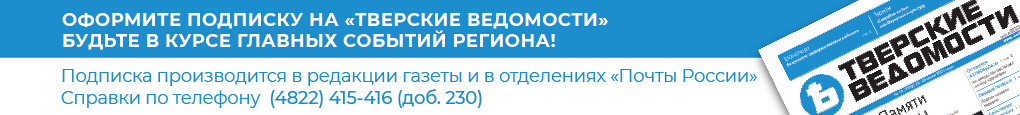С творчеством Ирины Воробьевой, которой посвящена недавно открывшаяся выставка в Тверской областной картинной галерее, у меня связана очень личная и важная история.
Дело в том, что моя страсть к тиражной графике началась несколько лет назад со случайной находки в заброшенной сельской школе пачки графических листов. Они пробились ко мне сквозь слой окурков, разбитых бутылок и поросших пылью бумаг, и в этой пачке вместе с волшебными офортами Станислава Никиреева было два листа Ирины Воробьевой.
Тогда я их красоту, увы, не оценила, и через некоторое время продала один в частную коллекцию. Покупатель оказался художником, бывшим коллегой Воробьевой. Он жадно схватил гравюру, долго ее разглядывал, а в благодарность рассказал немного о художнице: каким скромным и трудолюбивым человеком она была, как рано сгорела от рака, не оставив учеников, — и как мало, увы, ее ценили тогда молодые, увлеченные Уорхолом и Пикассо коллеги по Химкинскому художественному комбинату:
— А сейчас любой дизайнер люто завидовал бы этой буйной декоративности, этой детской радости жизни! Вот какие мы были дураки!
Я этим признанием прониклась, долго потом разглядывала работы Воробьевой в Интернете, второй ее эстамп – «Сосна на Парнасе» — оставила у себя, одела в хороший багет, и скоро эта замечательная, яркая работа украсит конференц-зал РИА «Верхневолжье».
К чему это я: к тому, что на выставку-ретроспективу графики Ирины Воробьевой, открывшуюся в Тверской областной картинной галерее в начале октября, я шла, уже имея некоторое представление о ее творчестве и питая к нему большие симпатии.

Всего в коллекции галереи находится 25 работ художницы. И можно представить себе, с какой сложностью столкнулись кураторы выставки: Воробьева много экспериментировала с техниками и с темами, придумала даже свою собственную технику печати, сумев воспроизвести в эстампе рисунок гуашью (да-да!). И как же показать такую разную художницу? В итоге на выставке представлены все грани ее таланта — буквально по одной работе на каждую грань. А объединяет их удивительное свойство Воробьевой, которое, к сожалению, и сыграло с ней в свое время злую шутку, отправив в когорту немодных, а потом и забытых мастеров: это очень светлый, жизнерадостный художник, всерьез радующийся реальности, — что, конечно же, шагало не в ногу с художественным мейнстримом семидесятых-восьмидесятых и казалось наивным ретроградством.
Вот Воробьева работает с производственной темой. Возьмись за нее в то время любой другой график — и получился бы скучный поздний соцреализм, выхолощенный, неубедительный. А вот на листах Воробьевой лица рабочих по-прежнему вдохновенны, и стропила гудят, и будущее настает, и художник в это искренне верит.
Казалось бы, чем можно было вдохновиться в семидесятых-восьмидесятых в деревне, уже искалеченной реформами, истекающей кровью, потерявшей корни? Уже пропет и реквием – «Прощание с Матерой…». И этот мотив мы видим в том числе на листах Ирины Воробьевой: вот деревня военная — и на скудной пашне выбивается из сил измотанная крестьянка. На обочине остановился и смотрит на нее солдат с вещмешком: то ли муж ее, вернувшийся с фронта, то ли видение — напоминание о погибшем. А вот не та ли крестьянка кланяется в пояс матушке-избе — и мы понимаем: это прощание, конец деревни.
И что, кроме поминальных песен, кроме постиронии, тут, казалось бы, можно было затянуть? А Воробьева все равно умудряется найти и надежду, и мечту, и луч света в кромешной темноте: в плясках молодежи, прибывшей в колхоз на картошку, различимы народные, языческие мотивы. Трактор ползет по пашне куда-то в горизонт, весь залитый солнечными лучами, а за горизонтом, надо полагать, будущее — конечно же, прекрасное.

Мир русской деревни, несмотря на все испытания и трагедии, в графике Воробьевой жив. Глядя на портрет крестьянки-передовицы, можно предположить: художница видела серию Бориса Григорьева «Расея» (как видел ее, конечно, и висящий в соседнем зале Шлейфер): но темна и непостижима русская деревня-хтонь Григорьева — а у Воробьевой она светла, открыта и жива.
Оптимизм этот, увы, оказался не ко времени. Как не ко времени пришлись и ее городские пасторали: романтизм Воробьевой, вглядывающейся в молодые женские лица, в безмятежно играющих детей, в растущие новостройки, столь уместный в шестидесятых, на излете семидесятых казался уже безнадежным анахронизмом.
А ведь перед нами прекрасная графика и совершенно откровенный, пробивающийся сквозь толщу мелких тем, ничтожных поводов талант. Причем талант даже не графика — а несбывшейся, невоплотившейся живописи. Главное в работах Воробьевой не линия, а цвет: и не случайно она так упорно пыталась найти свой рецепт его тиражирования в гравюре. Цвет побеждает даже в монохромных работах — его яркие неожиданные вспышки на черно-белом становятся основным художественным приемом.
Графика у Воробьевой отменная: остается только догадываться, какой прекрасной была бы ее живопись, если бы… Но тут мы вступаем в область гипотез и альтернативной истории. А времена, как известно, не выбирают.
Отрадно, что имя художницы постепенно возвращается в летопись русского искусства: на доме, где она жила, появилась скромная мемориальная доска, краеведческий музей в Щелкове выпустил каталог ее работ, а графические листы Воробьевой начинают прибавлять в цене на аукционных продажах, что говорит о растущем интересе коллекционеров.
Самое время заглянуть на тверскую выставку «Светлый мир Ирины Воробьевой» (6+), которая продлится до 28 января: для этого есть еще целая осень и новогодние каникулы.